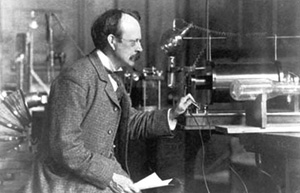Красочные открытия
31 октября исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося немецкого химика-органика Адольфа фон Байера.
Таких подарков ко дню рождения не получал больше никто. На пятидесятилетие – наследственный титул с правом на почетную частичку «фон» перед фамилией в знак признания заслуг перед Отечеством. А ровно двадцать лет спустя – Нобелевская премия «за заслуги в развитии органической химии и химической промышленности благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям».
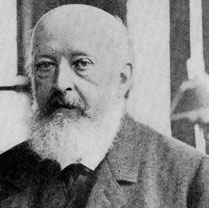 Свое первое научное открытие Адольф Байер сделал в двенадцать лет – получил новую двойную соль, карбонат меди и натрия. В берлинской гимназии Фридриха Вильгельма химию преподавал «неспециалист» – известный математик и физик Шельбах. Он сразу заметил смышленого мальчугана, читавшего… руководство по органической химии. Эту книгу из очередной длительной командировки привез сыну Иоганн Байер – офицер прусской армии, активно занявшийся геодезией. Безоблачное детство Адольфа окончилось, когда во время очередных родов умерла его мать. Отца он видел нечасто, и в удивительном мире таинственных химических превращений мальчик находил отдушину. Шельбах поддерживал своего маленького друга как мог – не стал склонять его к близким для себя физике и математике, а вместо этого «назначил» Адольфа своим ассистентом по демонстрации опытов.
Свое первое научное открытие Адольф Байер сделал в двенадцать лет – получил новую двойную соль, карбонат меди и натрия. В берлинской гимназии Фридриха Вильгельма химию преподавал «неспециалист» – известный математик и физик Шельбах. Он сразу заметил смышленого мальчугана, читавшего… руководство по органической химии. Эту книгу из очередной длительной командировки привез сыну Иоганн Байер – офицер прусской армии, активно занявшийся геодезией. Безоблачное детство Адольфа окончилось, когда во время очередных родов умерла его мать. Отца он видел нечасто, и в удивительном мире таинственных химических превращений мальчик находил отдушину. Шельбах поддерживал своего маленького друга как мог – не стал склонять его к близким для себя физике и математике, а вместо этого «назначил» Адольфа своим ассистентом по демонстрации опытов.
Наверное, Шельбах был очень мудрым педагогом. Его ненавязчивое научное руководство привело к тому, что Адольф Байер, проявляя незаурядные способности к химии, проникся неподдельным интересом к физике и математике. Окончив гимназию, восемнадцатилетний юноша выбрал себе для поступления именно физико-математическое отделение Берлинского университета, где успешно проучился два года.
Образование прервала воинская повинность. После года службы в армии Адольф переосмыслил свои жизненные планы и решил всецело посвятить себя химии. Правда, опыт не пропал даром – молодой человек решил продолжить обучение в Гейдельбергском университете у Роберта Бунзена, признанного мэтра физической химии. «Отбить» у того талантливого ученика смог только не менее выдающийся ученый – Фридрих Август Кекуле, знаменитый органик, создатель теории валентности и легендарной шестигранной формулы бензола с чередующимися одинарными и двойными атомами. Харизма Кекуле «перевесила» скромность оборудования его лаборатории; оставшись здесь, Байер занялся синтезом метилированных хлоридов мышьяка, за что и получил в 1858 году докторскую степень.
Влияние учителя было столь сильным, что Байер, едва получив диплом, не раздумывая отправился с Кекуле в Бельгию, в Гентский университет, где тому предложили преподавание. «Героизм» молодого ученого состоял в том, что ассистенты, в статусе которого он пребывал, не получали зарплату – Адольфа содержал отец, к тому моменту уже пребывавший в генеральском звании. Те два года бельгийской командировки Байер запомнил очень хорошо: вернувшись в Берлин и устроившись на должность преподавателя органической химии в Высшей технической школе, он отдавал половину своего скромного жалованья своему ассистенту, которому официально ничего не полагалось.
Здесь, в Берлине, ученый проработал пятнадцать лет, практически с нуля создав одну из мощнейших химических лабораторий, которой интересовались не только ученые, но и промышленники. А в 1875 году Байер возглавил кафедру в Мюнхенском университете, став преемником признанного отца всей немецкой химии – Юстуса фон Либиха. Не случайно в 1903 году именно Байеру была вручена первая медаль Либиха – одна из престижнейших наград.
Основные работы Байера относятся к органическому синтезу. Среди наиболее известных его творений – барбитуровая кислота и ее соли, первые успокоительные препараты, чья эра продлилась почти столетие, вплоть до открытия более безопасных современных диазепиновых транквилизаторов; терефталевая кислота – исходный продукт для ставших нормой сегодняшней жизни пластиковых ПЭТ-бутылок; фенолфталеин – классический индикатор, добавление капельки которого в пробирку со щелочью окрашивает ее в ярко-малиновый цвет, поражая каждого начинающего изучать химию школьника… Но главным делом жизни Адольфа Байера, несомненно, стало индиго. Сначала ученый исследовал свойства натурального красителя, открыв при этом способы получения многих важных соединений. А итогом двадцатилетней работы стало получение синтетического индиго, который быстро вытеснил дорогой естественный аналог и дал мощный толчок развитию текстильной промышленности. Так что наследственный титул, пожалованный ученому на его пятидесятилетие, был более чем заслужен: это благодаря его трудам Германия стала мировым лидером легкой промышленности.
В области химии красителей Байеру удалось совершить еще одно маленькое, но очень эффектное открытие – синтезировать флуоресцеин, необычный светящийся пигмент, дотоле известный только как продукт жизнедеятельности некоторых микроорганизмов. Им можно было окрашивать в желтый цвет шелк и шерсть, но особой популярности у текстильщиков новый краситель не приобрел – очень уж слабо он «ложился» на ткань. Зато ему быстро нашли другие, самые разноплановые применения: от глобальных исследований океанических течений до прозаического обнаружения утечек из водопроводных труб. А сегодня флуоресцеин переживает свое второе рождение именно как краситель тканей: им пропитывают спасательные жилеты – быстро расплывающееся ярко-зеленое пятно хорошо заметно с вертолетов.
Известный в первую очередь своими «красочными» прикладными исследованиями, Байер не оставлял теоретических изысканий, видимо, сказалась привитая в юношеские годы Шельбахом и Бунзеном любовь к физике и математике. Один из наиболее значимых результатов на этом поприще – теория напряженности химических связей, устанавливающая зависимость между углами в углеродных циклах и прочностью последних. Кекуле когда-то предложил формулу бензола в виде шестигранника с чередованием одинарных и двойных связей. Такая модель, однако, не могла объяснить, почему бензол не вступает в ряд реакций, характерных для соединений с двойными связями. Сам Кекуле вышел из положения с помощью так называемой осцилляторной гипотезы: согласно ей, двойные связи в бензоле не стоят на месте, а «прыгают» внутри молекулы, меняясь местами с одинарными. Байер экспериментально установил, что все шесть атомов углерода в бензольном кольце абсолютно идентичны друг другу, и предложил взамен учительской формуле свою – циклическую, в которой все атомы связаны между собой одинарной связью, а шесть вторых электронов образуют вторую, единую для всей молекулы кольцевую связь. Эта теория хорошо объяснила, почему бензол и все ароматические соединения ведут себя промежуточным образом, проявляя свойства соединений и с одинарными, и с двойными связями.